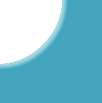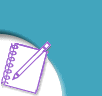
Михаил Брюханов
АНГЕЛ
A butterfly with broken wings is falling by your side…
Pink Floyd
“Cymbaline”
В сине-розовом небе догорал закат. Горячий дневной ветер, почуяв ночь, улегся, уступив место пьянящей вечерней прохладе. Дорога опустела, лишь вдалеке запоздавший торговец торопил лошадей, стремясь добраться до города до темноты: на ночь городские ворота закрывались, а ночевать под открытым небом ему не хотелось. Сам город был едва виден — он поблескивал тусклыми огнями, словно обещая приют, хотя редко кто из случайных прохожих мог чувствовать себя там в безопасности.
Заходящее солнце полыхало огнем — не ослепляюще алым, но нежным, желто-розовым, живым… Вся земля купалась в этом волшебном свете: ни одного деревца не было по обеим сторонам дороги, ни одной тени не появилось на плоской, обожженной дневным солнцем равнине. На западе небо было окрашено в пурпур, на востоке оно было цвета сапфира, и причудливые сочетания этих цветов превращали сухую землю в сказочный сад. Воздух, сухой и мучительный днем, был густым и сладким, и все живое, что было в степи, выползало из своих дневных нор насладиться им. Звон тысяч насекомых стоял в воздухе, и радостный пир природы был слышен на много миль вокруг — только за стены города он не проникал. В городе был свой пир…
Звуки были невероятно отчетливы в эти предночные часы: шорохи крыльев бабочек, звон насекомых, писк мышей — все было слышно в этом странном однородном гуле. Одинокое растерянное облачко, висевшее посреди темнеющего неба, смотрело вниз, и не видело ни одного человека, который мог бы насладиться этим зрелищем, и ему было безумно жаль людей. Тая в вечернем воздухе, оно не жалело себя, но с тоской вглядывалось в землю, пытаясь не упустить ни мгновения этого великолепия. Вскоре оно исчезло, растеряв себя в бесчисленных капельках влаги, рассеяв в воздухе свое восхищение — и всем на земле стало немного радостнее. На его месте появилась (странная?) белая точка.
Никто не смотрел вверх, потому и не видел, как стремительно она приближалась, увеличиваясь в размерах. Это не был снег — снежинки не падают поодиночке, — и это не была птица, потому что нет на свете птиц такого размера, но оно имело перья, и их бело-розовый след оставался в небе еще долго, медленно оплывая в замершем воздухе. Это был Ангел, и он падал, ибо больше не умел летать.
Казалось, ужасная буря терзает его тело, ибо в безветрии он падал, дико крутясь, то взлетая вверх, то волчком устремляясь вниз, то почти неподвижно замирая в воздухе, теряя перья из бессильно замерших крыльев. Закат окрасил его белые одежды в бледно розовый цвет, и они становились все темнее, по мере того, как солнце скрывалось за горизонтом… На западе небо было уже почти совсем черным.
А шум нарастал. Хор кузнечиков, еще недавно нестройный и смущенно-тихий, вдруг окреп, налился силой и зазвучал как единый голос — громовой голос! Воздух впитывал в себя звуки и, усиливая их многократно, трепетал в восторженном единстве. Мыши, задирая головы вверх, пищали все пронзительнее, а топот их ног казался барабанной дробью. Комары, мушки, жуки — все, кто мог летать — поднялись в воздух, и гул их крыльев обволок землю. Все звери — большие и маленькие — вдруг нашли в себе силы кричать — и закричали в один голос, и даже город притих, словно оглушенный.
А Ангел все падал, и чем ближе к земле, тем быстрее был его полет, тем слабее была его воля, рвущаяся назад, в Небеса, и тем прямее был алый след его выпавших перьев. На мгновение солнце, прощаясь с еще одним днем, осветило его лицо — и, испугавшись, исчезло. В тот же момент вдруг стало тихо. Воздух похолодел и замер, и все застыло, глядя вверх, и люди в городе вдруг испытали безотчетный ужас и замолчали. Коротко прошелестел ветер, и стал слышен свист падения и шорох медленно опадающих перьев, и короткий глухой стон… С мягким стуком, подняв в воздух облако пыли, Ангел упал на дорогу, и наступила ночь.
Ночь не любит белого цвета. А Ангел, даже лежа на земле, не в силах снова взлететь, оставался белым, поэтому ночь не любила Ангела. Ему было холодно, и ему было больно — он был один в этой ночной тиши, ибо ночь прогнала от него все живое. Потерянные перья, теперь уже черного цвета, падали на его лицо, и их мягкие прикосновения будили воспоминания…
Он лежал совершенно неподвижно, даже и не пытаясь встать, хотя тело его, нечувствительное к человеческой боли, осталось цело. Из-под прикрытых век текли слезы, смывая со щек пыль и холодя кожу. Бледные пальцы вцепились в дорожные камни, отчаянно сжимая их, как будто стремясь остановить закончившееся уже падение, и камни не выдерживали такое давление и превращались в пыль. Сломанные крылья, все такие же белые, бессильно распластались вокруг него — они мелко подрагивали, будто пытаясь расправиться вновь, но не имея для этого сил.
Ночь плела вокруг Ангела свою черную паутину, сгущая тени и остужая воздух, но чем темнее становилась ночь, тем ярче горели белые ангельские одежды. Тогда она обрушилась на его крылья, стремясь заморозить их мелкую дрожь, лишить их жизни и белизны — и от ее ярости крылья начали тускнеть, замирать, погружаясь в тень… Кокон тьмы обвился вокруг белой ангельской фигуры — он дышал отчаянием, и все живое в страхе шарахалось прочь. Тишина стояла полная, лишь пьяные вскрики иногда доносились из города, да с хрустом лопались камни в руках у Ангела. И лишь когда последний из них превратился в пыль, он открыл глаза, и ночь в страхе отступила.
В глазах Ангела горел огонь. Клубы пламени, подобные первозданному хаосу, бесновались внутри, и ужас рождался при одном только взгляде на них. Страшно было глядеть в эти смоченные слезами глаза, в которых теснилось слишком многое. Душа Ангела была объята огнем: огнем обид и желаний, огнем ярости и тоски по утерянному спокойствию, огнем отчаяния и боли — память о вечности горела в них, и он не мог ее погасить. Слишком слаб он был под яростным напором времени, слишком много он знал — слова и видения жгли его изнутри, наполняя ненужным ему пониманием: он лишний там, и никогда больше благодать не осенит его чела, и никогда ему больше не испытать радости, которой там так много… слишком много желаний… и он лишний здесь, где все смертно, где слишком много любви, непонятной ни одному ангелу… слишком много страсти… Ни одного стона больше не срывалось с его губ, вместо губ кричали его глаза — отчаянно, яростно, жалобно, — но никто не мог слышать этот крик. Никто больше не мог помочь ему.
Теперь он знал все, и “все” означало слишком много. Весь мир был внутри его, переменившийся, огромный, слишком сложный, чтобы принять его, слишком прекрасный, чтобы от него отказаться. Хотелось любить его, но можно ли любить эту боль внутри, если она раздирает тебя на части? Слезы текли по его щекам, не в силах погасить отчаяние, а крылья дрожали все мельче и мельче, умирая отдельно от него. Он никогда уже не сможет летать — слишком тяжел груз, который он на себя принял. Вечность не научила его мудрости.
На небе зажглись и погасли звезды, а он все лежал, чувствуя, как умирают его крылья. Опавшие перья прикрыли его фигуру от холода, и ему больше не было больно — но огонь внутри горел все также яростно, и слезы продолжали течь. Он закрыл глаза, ибо видеть звезды ему было невыносимо, и тоска и ярость захлестнули его. Его тело сотряслось, и он закричал что-то, что поняли только звезды, и когда он замолчал, они исчезли. Налетевший ветер пригнал с севера тучи, и стало еще темнее, и в этой темноте лишь ангельские одежды горели непокорно и ярко. Вечность не научила его смирению.
Землю захлестнул дождь, короткий и дикий, а когда он кончился, небо на востоке заалело.
В мягком свете утреннего солнца плясала бабочка, первая бабочка в этот день, и лучи весело искрились на ее крыльях. Она спала всю ночь, и теперь была слишком полна жизни, чтобы замечать тоскливую тишину вокруг. Шорох ее крыльев трепетал в утреннем воздухе, отгоняя от нее тоску, и, видя Ангела, она не боялась его неподвижной фигуры. Он слышал, как она, танцуя, приближается, и ему казалось, что огонь внутри утихает, и он попытался вспомнить смысл улыбки, и ему это почти удалось. А она подлетала все ближе, радуясь влаге на его лице, и ему вдруг безумно захотелось почувствовать ее. Тогда он открыл глаза и протянул руку.
Она замерла в воздухе, и в звенящей тишине ее крылья хрустнули и переломились пополам. Скрюченное, неживое уже тельце упало на землю, не шелохнув ни пылинки — слишком невесомым было оно. Сломанные крылья, окутанные облаком пыльцы, упали следом — и Ангел понял сущность своего проклятия.
Он встал рывком, не чувствуя ни усталости, ни боли, оставив свои крылья и свою тень лежащими в пыли. Он взглянул на небо, потом на дорогу, потом на свои руки — и пошел в город. Ему даже не пришло в голову обернуться.
Вечность не научила его раскаянию.
Конец.
25 Ноября 1999г.