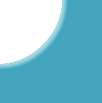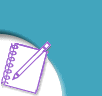
Михаил Брюханов
ГИЛЬОТИНА
К пяти часам, когда должна была состояться последняя на тот день казнь, все уже давно было готово; все уже устали от ожидания. Погода была отвратительная: тучи, холод, сырость; того и гляди пойдет дождь, — наверное, поэтому зрителей было на удивление мало. Мрачность природы лишала казнь обычной веселости и праздничности; одежда мокла и липла к телу, кровь казалась серой как грязь, а слезы на щеках родственников и друзей были похожи на капли дождя. Так что, на площади перед гильотиной собралось всего полтора десятка человек, стоящих серой мрачной кучкой; это если не считать солдат, конечно — они, как всегда, были на месте, неподвижные вокруг эшафота, хоть и нетвердые на пьяных ногах.
Когда начало бить пять часов из темного, обложенного соломой ящика извлекли новое лезвие для гильотины и — одновременно — в воротах показалась повозка с приговоренным. Вялые крики из толпы были ему приветствием. Его вид тоже разочаровывал.
Он пытался казаться гордым и спокойным, но узкие плечи и жидкие мокрые волосы делали его жалким, а бледные губы дрожали, и в глазах блестели слезы. Впрочем, возможно, ему просто было холодно. Одет он был в просторную грязную рубаху, сильно порванную, но еще как-то держащуюся на теле. Штаны тоже были рваные, но не настолько, чтобы ему было неприлично показаться перед женщиной.
Широко расставив ноги, со связанными за спиной руками он стоял в центре повозки, покачиваясь только когда она подскакивала на крупных булыжниках. Он клялся себе, что не раскроет рта перед этими животными, прекрасно зная, что и этой его последней клятве не устоять. Судебный пристав в это время кричал толпе слова приговора и это был первый и последний раз, когда эти люди слышали его имя. Они его тут же забыли.
Пока солдаты тащили его на эшафот, он еще держался, но, оказавшись там, привычно глядя на толпу сверху вниз, но будучи теперь ниже самого низкого из них, он почувствовал, что мужество покидает его. Чтобы как-то подбодрить себя и не дать себе заплакать, он заорал вдруг “Нет республике! Ура монархии!” — это были пустые привычные звуки, точно так же он мог орать “Свистать всех наверх!” или “Я люблю свою собаку!”, но обстановка требовала этих глупых лозунгов, и теперь кроме них он не помнил ни единого слова. Кроме, может быть, “страх”.
Толпа безучастно слушала его сиплые крики, терпеливо ожидая, что его голову просунут в зажим, и он замолчит, потому что невозможно было кричать, когда твоя голова зажата между деревянными брусьями лицом вниз. Лишь судебный пристав морщился: он был фанатичный слуга Республики и, несмотря на то, что такие крики были неотъемлемой составляющей представления, они его раздражали. Позволив заключенному немного покричать, он дал знак одному из солдат, и тот быстрым движением приклада заставил крикуна замолчать.
Пока приговоренный, хрипя, валялся на мокрых досках эшафота, толпа, наконец, расшевелилась, закричала, и в его сторону полетели яблочные огрызки, плесневелый сыр, рваные тряпки и прочий мусор; некоторые кидали и камнями. Их, впрочем, быстро усмирили: возбужденные люди не отличались особой меткостью, поэтому приличная часть мусора доставалась солдатам. Кричавшие, однако, не умолкли, так что происходящее начало уже немного напоминать настоящую казнь.
Ловя ртом воздух, корчась от раздирающей легкие боли, приговоренный все равно продолжал шептать что-то, но слов уже нельзя было разобрать. Наконец, когда он понемногу опять начал дышать, его подхватили под руки, поставили на колени и зажали его голову между двумя толстыми деревянными брусьями. Он все еще пытался кричать, все громче и быстрее, запинаясь и путаясь, без пауз и ударений: “нетреспубликеурамонархиинетреспубликеура…”, так что уже не было понятно, что он отвергает, а что восхваляет. Зубы его стучали, колени дрожали, а из глаз давно уже текли слезы. Даже судебный пристав, по должности обязанный оставаться безучастным, не смог удержаться от довольной усмешки.
По сигналу начали бить барабаны; не бить, впрочем, а скорее хлюпать: при таком обилии казней и дождей никто почему-то не позаботился о том, чтобы держать их сухими. Впрочем, всем было все равно — барабаны были не более чем символом, тем более что верные Республике солдаты все равно не умели стучать как следует. Для приговоренного, однако, они отдавались в голове раскатами грома, потому что отсчитывали последние мгновения его жизни. Только теперь он понял, насколько ему хотелось жить. Беспрерывный крик его становился все тише и неразборчивей, почти превратившись в стон, в котором можно было разобрать только мольбу: “я хочу жить, я хочу жить, я хочу ЖИТЬ…”. В толпе заулюлюкали. Все же казнь была хорошим развлечением.
Под радостный крик лезвие гильотины загремело вниз. Голова со стуком упала в приготовленную корзину, и в ту же минуту хлынул дождь, почти сразу погасив все веселье. Многие в сердцах плюнули, самые дерзкие демонстративно погрозили небесам кулаком — законы Республики позволяли угрожать божеству. Дождь, однако, не прекратился. Божество безмолвствовало, лишь мерный шум капель волнами носился по пустым улицам. Всем сразу стало скучно и холодно, и они пошли было по домам, но вдруг откуда-то раздалось визгливое “Долой Республику!!!”, и все замерли, только теперь увидев, что судебный пристав, бледный от ужаса, указывает дрожащей рукой на тело казненного. Солдаты схватились за мушкеты, народ умолк. Голос шел из корзины.
Все вроде было как надо, голова была отдельно, тело отдельно, но и в таком виде они почему-то продолжали жить. Если бы не дождь, всем бы сразу стало заметно, что из шеи трупа даже не идет кровь, каким-то немыслимым образом сквозь пространство попадая в голову. Голова же, лежа лицом кверху, строила радостные гримасы и продолжала орать свои противозаконные лозунги.
Всем вдруг начало казаться, что они спят. Так иногда бывает перед самым пробуждением, когда в реальность сна вдруг вмешивается реальность жизни, и вместе они становятся одинаково невероятны; в такие моменты все удивительное принимается с одинаковым равнодушием, с ожиданием того, что оно вскоре исчезнет, и какая-нибудь из реальностей поглотит в себе другую. Но в этот раз такого не получилось.
Судебный пристав очнулся первым, потому что увидел это недоразумение раньше всех и первым впал в ступор. Подняв голову, он увидел, что ошеломленный народ машинально крестится — это было против правил, но в данной ситуации оправдано. Полупьяные солдаты медленно трезвели, рассудив, что на них это отразится прежде всего. Казнь окончилась — с виду успешно, но на самом деле полным провалом.
Жуткое, нереальное, надо сказать, было зрелище: грязная площадь, окруженная ветхими домами, неприветливое мрачное небо, извергающее потоки воды, холод и слякоть, и посреди всего этого — серый помост из подгнивших досок, зловещая фигура гильотины и обезглавленный труп, окруженный ошарашенными мокрыми людьми — труп, несмотря ни на что, визжащий что-то и силящийся встать. Без головы ему это никак не удавалось.
Кто-то в толпе упал в обморок, кто-то истошно закричал и бросился бежать — это сбросило с людей оцепенение и они стали громко молиться. Тело, беспрестанно оскальзываясь, смогло, наконец, держась за вертикальные опоры гильотины, кое-как встать и стояло, покачиваясь, ежась от холода и оглядываясь по сторонам пустой шеей. Голова продолжала визгливо орать что-то неразборчивое, и всем было настолько жутко от этого крика, что один из солдат, не выдержав, скинул плащ и накрыл им корзину. Голова тут же умолкла, потом громко попросила убрать плащ, уверив, что больше не будет кричать. Ей было трудно дышать. Никто, конечно же, не обратил на ее просьбу внимания.
Судебный пристав в это время совещался со своим помощником и начальником стражи.
— Убейте ее! — с ужасом в голосе причитал помощник. Голова его пугала больше, чем нетвердо стоящее обезглавленное тело.
— Но мы уже это сделали, — резонно возражал начальник стражи.
— Но он не мертв! — восклицал помощник и заискивающе смотрел на судебного пристава. Тот бешено кусал губы и отводил глаза, со страхом чувствуя, что волнующийся народ готов либо к бегству, либо к бунту. Нельзя было допустить ни того, ни другого.
— Пристрелите его, — наконец приказал он.
— Куда именно? — деловито осведомился начальник стражи.
— В голову, в голову, — заверещал помощник, и судебный пристав с сомнением согласился. Начальник стражи, пытаясь сохранять спокойствие и надеясь на особую благодарность Республики в случае, если успешно решит эту проблему, сдернул с корзины плащ и достал пистолет. Голова лежала молча, широко разинув рот и хлопая ресницами, безуспешно пытаясь одновременно спасти глаза от капель дождя и видеть все вокруг. Картина это была жуткая и комичная одновременно; потом начальник стражи нередко видел ее в своих ночных кошмарах. Он вытянул руку с пистолетом далеко вперед и выстрелил. Голова заверещала.
Он промахнулся. Возможно, виной тому было волнение — рука его заметно дрожала, — возможно, это было провидение. Начальник стражи не верил в проведение, поэтому выхватил второй пистолет и выстрелил еще раз — и снова промахнулся. Метнувшись к одному из солдат, он отнял у него мушкет, приставил дуло к самому лбу головы и, не слушая ее причитания, нажал на курок — но мушкет не выстрелил: то ли он был не заряжен, то ли порох отсырел под дождем. Обезумев, начальник стражи выхватил саблю, схватил голову за волосы, выволок ее из корзины, бросил на доски эшафота и замахнулся — но в тот же момент тело, поскользнувшись, упало ему на спину, а народ, не выдержав этого жуткого зрелища, завопил и кинулся наутек. Голова радостно верещала им вслед.
Лишь один из зрителей не потерял голову и не бросился бежать: высокий молодой человек с неприятным лицом и непокрытой лысой головой. Его звали Пьер, и он называл себя студентом, хотя не посещал никакого учебного заведения. Наукам он посвящал себя дома, в мрачном особняке на окраине, доставшемся ему от рано умерших родителей. Ни Революция, ни Республика его не интересовали, однако он посещал каждую казнь, каждый раз оставаясь в стороне и наблюдая с интересом, но без участия. В толпе его не любили и сторонились.
У Пьера был договор с начальником стражи: после каждой казни он подъезжал к выезду с площади не своей набитой льдом телеге и выкупал один-два трупа. Тела государственных преступников все равно сваливали в общие могилы, поэтому одним больше, одним меньше — никому не было до этого дела. Правда, начальник стражи все равно брал за эту услугу немало, но Пьер, как и подобало служителю наук, с деньгами расставался легко и с презрением.
Пьер уже много лет изучал человеческое тело. Сначала теоретически — читал книги, слушал лекции, некоторое время даже посещал университет; но университет его разочаровал быстро, лекции были скучны, а книги сложны, и он, усвоив основы, поспешил перейти, наконец, к вожделенной практике. Это позволило ему окончательно уединиться, ограничив себя минимумом учебного материала и положившись в основном на собственную фантазию. Он хотел написать книгу; трудно сказать, что он надеялся добавить к уже существующим подробнейшим описаниям человеческой анатомии, разве что простоту описания. Все у него было до смешного элементарно: сердце – мотор, сосуды – каналы, мышцы – пружины, нервы – веревки, за которые дергает головной мозг…Возможно, он писал школьный учебник. Как бы то ни было, трудился он упорно и с толком.
Поначалу доставать человеческие тела в хорошем состоянии было сложно, приходилось обращаться к сомнительным людям и получать от них сомнительные же трупы; но другого выхода не было. Революция изменила положение к лучшему: трупов стало так много, что никому и в голову не приходило их считать. Он предпочитал жертвы гильотины потому, что их убивали весьма аккуратно; к тому же, за некоторые трупы родственники платили хорошие деньги, поэтому, выкупив одного для них, Пьер мог позволить еще парочку для себя. Работа над книгой продвигалась очень быстро, оставалось написать лишь несколько глав и сделать иллюстрации и комментарии — и тут вдруг судьба подарила ему такой шанс.
После того, как первое, вполне объяснимое оцепенение прошло, Пьер осознал, какой простор для исследований содержит в себе это чудо. Даже если не задумываться над тем, как оно стало возможно, само по себе разделение живой головы и живого тела позволяло наяву наблюдать все те процессы, о которых раньше можно было только догадываться. К тому же, раз тело, лишившись головы, продолжало жить, то, возможно, оно с той же легкостью сможет расстаться и с рукой или ногой? Восторг этого открытия подбодрил Пьера, заставив забыть о жутковатой загадочности казни, так что, когда народ в страхе бросился бежать, а начальник стражи, увлекаемый падающем телом, свалился на сырые доски, он закричал: “Подождите!” и, оскальзываясь на мокрых булыжниках, побежал к гильотине.
Остолбеневшие солдаты не задержали его. Они вообще уже не были способны на какие-либо действия; на их глазах командир боролся с обезглавленным телом, и это плохо влияло на их пьяные головы. Они бы убежали тоже, но ноги едва их держали. Так что, когда начальник стражи, наконец, вырвался из судорожных объятий казненного, вскочил на ноги и замахнулся саблей опять, Пьер уже был рядом и перехватил его руку, крича и плюясь прямо в налитые кровью глаза: “Не убивайте его! Отдайте его мне!”.
Начальник стражи чуть было не убил и его тоже. Пьера спас судебный пристав, человек разумный и умеющий вовремя взять себя в руки. Бросив своего упавшего в обморок помощника, он тоже вцепился в начальника стражи, и на пару с молодым ученым им удалось привести его в чувство. Тело все это время барахталось в грязи, свалившись, наконец, с помоста и силясь опять подняться на ноги; головы, лежа на левом ухе, разглядывала солдат и что-то бормотала. Площадь окончательно опустела.
Когда начальник стражи, наконец, пришел в себя и немного успокоился, к нему вернулась его обычная деловая хватка. Пьер предлагал за казненного две сотни монет — больше у него с собой не было; начальник стражи настаивал на 150-ти за тело и 100 за голову. Судебный пристав, рассчитывая на часть прибыли, кричал, что одна голова стоит не менее двух сотен, тело же, как рабочая сила, и того дороже. Пьер возражал, что тело без головы работать не может, уверял, что заботится только о благе науки и раздумывал, как бы сбить цену до 150 монет. Начальник стражи опять начал злиться, то и дело хватаясь за саблю; судебный пристав его успокаивал, укоряя Пьера за то, что он заставляет нервничать и без того взволнованного человека. Пьер отвечал, что с радостью избавит их от причины беспокойства. Солдаты, тупо глядя на них, понемногу успокаивались. Дождь начал понемногу стихать, тело, дрожа от холода, прекратило ворочаться и как труп лежало в луже, и все, казалось бы, вернулось на свои места — но тут голова вдруг заорала: “СМИРРНА!”, и солдаты, вскрикнув, вытянулись и дружно уронили мушкеты. В наступившей тишине голова громко и отчетливо хихикала. Дождь окончательно перестал.
— Двести, вы говорили? — сглотнув, хрипло спросил начальник стражи.
— Двести, — прошептал Пьер, потом, придя в себя, повторил громко: — Двести.
— По рукам.
Пьер дрожащими руками осторожно поднял голову, двое солдат по приказу начальника подхватили под руки тело, швырнули его на пьерову телегу, и они расстались — студент со смешанным радостно-тревожным отправился домой, начальник стражи с чувством облегчения поскакал в контору придумывать отчет, а судебный пристав, приведя в чувство помощника, побрел к начальству — отказываться от проведения завтрашней казни по состоянию здоровья. Солдаты отправились по кабакам.
Благодаря дождю и холодной погоде улицы в тот день были почти пусты, поэтому Пьеру удалось добраться до дома никем не замеченным. И это было хорошо, потому что голова всю дорогу пыталась петь, и Пьеру приходилось затыкать ей рот соломой, чтобы не привлекать излишнего внимания. По дороге он много раз пытался заговорить с ней, но разговора не получалось: голова казалась безумной, отвечая невпопад и дико гримасничая. Тело же всю дорогу лежало смирно, как мертвое, так что Пьер не раз проверял у него пульс; пульс, однако, был нормальный и грудь мерно вздымалась. Вопреки всем законам природы, казненный продолжал жить.
Приехав домой, Пьер запер тело и голову в подвале, поужинал и лег спать — как ни велико было его нетерпение, столь необычная казнь сильно утомила его, а для научной работы ему нужна была свежая голова. Когда на следующее утро он спустился в подвал, в немом страхе, что все это окажется лишь сновидением, голова приветствовала его криком: “Пошел вон!”, и он готов был плакать от счастья. Думая о чудесах предстоящих открытий, он принялся за работу с чувством, что вся вечность впереди принадлежит ему. На самом деле все получилось иначе.
Не больше месяца изучал Пьер своего подопечного, за это время практически ничего не достигнув. Мало того, он практически забросил работу над книгой, похудел и опустился — потому что целыми днями только и делал, что наблюдал. Положив голову на стол и заткнув уши, чтобы не слышать ее нескончаемый говор, он смотрел в разрез шеи, видел, как бежит по сосудам кровь, как мягко пульсируют ткани, как сжимаются и разжимаются мышцы, и это зрелище завораживало его. Ему казалось, что ничего прекраснее и таинственнее он еще не видел. Потратив столько лет на изучение трупов, он только теперь открыл для себя чудо жизни.
К нему и раньше редко заглядывали люди, теперь же он еще решительнее отгородился от общества и гнал из своего дома каждого посетителя, иногда холодно и вежливо, а иногда провожая отчаянной руганью. Сам он тоже почти не выходил, лишь время от времени отправляясь купить себе еды, да и то ненадолго. Город в это время полнился слухами, еще более дикими и необычными, чем то, что случилось на самом деле, — начиная с пришествия Антихриста и заканчивая новой Революцией. Многие из очевидцев той казни, послужив источником этих слухов, позже прослыли большими чудаками просто за то, что, якобы, знали, как все случилось на самом деле. Некоторых так громко поднимали на смех, что в городе начались беспорядки. В конце концов вмешалась и Республика, осудив и казнив всех, кто присутствовал на площади в тот день. Кроме Пьера.
О нем все забыли, как и он забыл обо всех, кроме того, кто был спрятан у него в подвале, одной частью лежа на столе, а другой барахтаясь в углу: тело, по большей части неподвижное, иногда силилось встать и пойти куда-то, так что Пьер все же привязывал его на ночь. Иногда, когда восхищенное оцепенение с него спадало, Пьер пытался осознать все новое, что узнал из своих наблюдений, пытался что-то записывать и анализировать, строил теории, чтобы на следующий же день о них забыть. Иногда он слушал то, что говорит голова и даже записывал это — но голова болтала бессмыслицу, а когда он пытался с ней поговорить, отвечала руганью или молчанием.
А потом Пьер умер. Сгорел заживо в своем же доме, в спальне на верхнем этаже, когда однажды, утомленный своими бесплодными изысканиями, уснул, забыв погасить свечу, и не проснулся даже когда огонь охватил его самого. Его книга, его записи — все превратилось в пепел, даже его имя с трудом вспомнилось на следующее утро, когда соседи разгребали пожарище. Но поживиться там было нечем, разве что обугленными кирпичами, так что, откопав пару костей, люди зарыли их на кладбище, соорудив над могилой подобие креста и написав на нем просто “Пьер”; они не знали, были ли это его кости, но чувствовали, что долг их выполнен. С тех пор его сгоревший дом стоял пустой, медленно разрушаясь в ожидании, что в будущем, в более спокойные времена он вновь обретет хозяина. И лишь в его подвале, тщательно замаскированном и тем самым защищенным от огня, в тишине и темноте, лежала на столе голова и радовалась вновь обретенному покою. Ей нравилось быть живой и забытой. Ей хотелось, чтобы так было всегда.
И так оно и было.
Конец. Наверное...
21 Февраля 2001 г.